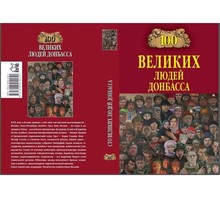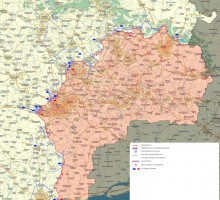Стойкость и мешочек лука
Об этой истории сообщали многие СМИ: в середине октября 2024 года российский разведчик Закарья Алиев в составе штурмового подразделения захватил украинский опорный пункт в Запорожской области. Однако вскоре после потери своих позиций укронацисты стали долбить артиллерией по утраченному опорнику — все сослуживцы Алиева, бойцы-штурмовики, погибли от вражеских снарядов.
А Закарья не только уцелел, но даже не был ранен. Более того, сумел в одиночку отбить несколько бандеровских контратак. Таков первый поворот судьбы. Второй проявился спустя несколько дней – стали кончаться запасы еды и воды, которые были с собой, плюс то, что обнаружилось в окопах и блиндажах опорного пункта. При этом разведчик Алиев даже не думал отступать и сдавать с таким трудом завоёванные позиции. Но как выживать?.. И боец принял нестандартное решение – он пошёл в атаку. Конечно, без крика «Ура!», без наглого броска в полный рост. По-тихому прокрался и зашёл с фланга. В результате взял в плен четырёх «жёлто-голубых» вояк да затрофеил мешочек лука и пачку сока. Третий поворот судьбы определили беспилотники – и свои, и чужие. Именно вражеские БПЛА убили тех пленных, кого Закарья хотел отправить к российским позициям.
Алиев остался держать свой опорник в одиночку. А сок быстро кончился. Хотелось пить. Жажда – слово страшное, кто её испытывал. Я лично слегка испытал в своё время в афганской пустыне. Но Закарья жажду чувствовал гораздо острее, потому что питался одним лишь луком. В нём есть немного жидкости, но после употребления горит весь пищевод. Этот пожар хочется залить водой. А её нет. И наш разведчик на чём-то белом изобразил свой позывной — Смайлик — послание, что он жив, и как просьбу к беспилотникам (постоянно барражирующим в небе), чтобы сбросили воду.
Увы, «плакат» заметили не наши, а украинские дроны. И вражеская артиллерия вновь начала перемалывать позиции, удерживаемые российским солдатом. Пришлось Алиеву в разрушенном блиндаже вырыть нору и подобно кроту уйти поглубже в землю. Иначе не выжить.
Ел только трофейный лук, жгучую горечь которого почти не замечал – хрустел, как яблоком. А пил из луж, плюс раскурочил все обнаруженные аптечки, в которых была жидкость, – например, перекись водорода, обезболивающее… В те моменты вода и еда для российского солдата были важнее патронов и гранат.
Артналёты продолжались системно, периодически, но долго, недели две, до конца октября. За это время в штурмовой роте посчитали, что Закарья погиб, как пали в бою и его товарищи, с кем он брал вражеский опорник. Матери солдата Халисат Алиевой, в селе Косякино Кизлярского района Дагестана, сообщили о гибели сына. Но мать не поверила – сердце подсказывало ей, что он жив.
В начале ноября одинокого российского бойца в разгромленном опорнике наконец заметили и наши БПЛА. Разобравшись в сигналах, которые солдат подавал беспилотнику, операторы сбросили ему воду, а затем еду. Но к этому моменту Закарья настолько обессилел, что руки и ноги отяжелели, передвигался он с трудом. Только немного подкрепившись, через день-два он подготовился к самоэвакуации.
Захваченный у врага опорник он в одиночку держал три недели! Успел и четырёх пленных взять, и уничтожить нескольких вражеских солдат. Теперь пора было возвращаться к своим.
Дорогу ему показывал беспилотник. Закарья бежать не мог, хотя раньше спокойно преодолевал марафонскую дистанцию. Теперь только шёл медленным шагом. И дошёл. Грязный, заросший, голодный, пропахший луком, но живой и непобеждённый. Многие стали называть героя «луковым бойцом». Но мало того, узнав из Интернета о героическом российском бойце, нацистское руководство Украины объявило премию «за голову» Алиева – 50 миллионов рублей в пересчёте на наши деньги.
Было бы странно, если бы случай с Закарьей оказался чем-то уникальным. На войне такие экстремальные «заморочки» не редкость (и к сожалению, и к счастью, одномоментно). И поэтому для примера – ещё одна история.
Произошла она на Кураховском направлении с российским штурмовиком Кешей. Такой вот позывной у парня из города Гуково Ростовской области. Поэтому, когда его командира просили дать характеристику бойцу, тот отвечал почти нараспев, подражая голосу из мультфильма про попугая: «Кеша харроший!» – и все улыбались.
Но в одном из боёв было не до улыбок. Наши штурмовики, в том числе и Кеша, слишком далеко вырвались вперёд в одном из поселков и попали под огонь вражеской артиллерии. Основная группа тут же откатилась назад, а парень из Гукова, прячась от осколков и ударной волны, нырнул в ближайший подвал. Да так там и завис на 12 суток. Выбраться пытался, но с одной стороны дома пути возможного отхода простреливал украинский пулемёт, а с другой – сразу работали миномёты врага. И постоянно шастали по округе диверсионно-разведывательные группы неприятеля. Одним словом, ловушка.
Для Кеши в подвале нашлись четыре банки консервов. Как потом выяснилось – по одной на трое суток. Слава богу, продержался солдат до подхода своих и выжил. «Попостился пацан», – шутили позже местные юмористы. Впрочем, одинокому штурмовику в подвале полуразрушенного дома в течение почти двух недель было не до смеха.
Бойцы из-под глыб
История стойкости солдат Алиева и Кеши невольно вызвала у меня ассоциацию с легендой о «бессменном часовом», которую в 1960-х годах услышал, а затем в книге о неизвестных героях изложил советский писатель Сергей Смирнов. Кстати, именно он был автором повествования о бессмертных защитниках Брестской крепости, о которых до него никто не знал почти 20 лет.
Так вот, легенда гласит, что в 1924 году польские власти решили расчистить развалины могучей в своё время крепости Перемышль. Эту австро-венгерскую (до 1914 года) крепость во время Первой мировой войны захватили русские войска. И какое-то время удерживали, пока подошедшие немцы в 1915 году не вернули её, вытеснив русских.
При расчистке завалов спустя десять лет после военных событий в подземелье польских рабочих вдруг окликнул на русском языке вооружённый бородатый человек в военной форме: «Стой! Кто идёт? Стрелять буду!» После переполоха работяги вызвали полицию. Та вступила в переговоры с «подземным бойцом» и долго уговаривала его сдаться. Однако тот долго упорствовал, поскольку не мог бросить пост, дескать, по уставу его должны сменить другим часовым. Кончилось тем, что полицейские вызвали офицера польской армии и тот, представившись на русском языке по полной форме (видно, в своё время служил в Русской императорской армии) «сменил» часового.
Выйдя из подземелья на свет божий после девяти лет службы при складах в нижнем ярусе крепости, солдат ослеп. Его отвезли в местный госпиталь, где он к ночи скончался. Фамилия «бессменного часового» в этой истории тоже упоминалась – Иванов (ничего удивительного для легенды).
Почему я вспомнил об этом? Потому что именно близость солдата к охраняемым складам не только с боеприпасами, но и с продовольствием (в том числе с консервами, уже успевшими завоевать своё достойное место в солдатском рационе) помогла ему продержаться на боевом посту при крепостном арсенале долгих девять лет.
Такова легенда. А на самом деле, как выяснила съёмочная группа телепрограммы «Искатели» совместно с российскими и польскими историками, в казематах крепости — форта №13 — оказался не один солдат-часовой, а два пленённых австрийцами русских офицера-разведчика. Один из них долго не протянул и, сойдя с ума (штабс-капитан Новиков), покончил жизнь самоубийством – перерезал себе горло какой-то острой железякой. А второй (имя его осталось неизвестным) продержался девять лет. Правда, тоже в конце концов потерял рассудок. Однако он оставил по себе дневник, который вёл на страницах амбарной книги местного интенданта. Многие записи в ней интересны и говорят о полной вменяемости и мужестве автора. Но в конце тексты уже неразборчивы и неадекватны.
Именно этого мужественного русского офицера нашли в казематах польские рабочие. Однако он ничего уже не смог никому рассказать и вскоре скончался. Ясно, что не только духовная стойкость помогла этому человеку продержаться девять лет в подземелье (значительную часть времени – в одиночестве, после потери товарища), но и наличие запасов продовольствия, в том числе консервов, свечей, вещевого имущества…
Впервые об этой истории рассказала на страницах журнала «Около свята» («Вокруг света») в майском номере за 1926 год польская журналистка Ванда Когутницка. А кроме того, большие куски текста из дневника русского пленника приводит в своей книге «Тайны Перемышля» польский историк Ян Розанский.
Увы, оригинал дневника был утерян. Видимо, уже в годы Второй мировой войны. А без него многие историки считают и свидетельства очевидцев, и публикации в польских книгах и журналах недостоверными.
Ну, в конце концов, это их дело. Я же лично очень рад, что существует легенда о героическом «бессменном часовом» Иванове. А ещё – верю в то, что польские публикации и исследования Когутницкой и Розанского имеют под собой фактическую основу. Иначе, судите сами, зачем польским публицистам придумывать фамилию Новиков самоубийце штабс-капитану, но при этом не придумать имя автору дневника (например, поручик Стариков)? В общем, если вся история, опубликованная исследователями ещё 100 лет назад, – выдумка, то какая-то странная своей «недоделанностью», профессионально несовершенная. Серьёзные литераторы так топорно байки не придумывают.
Однако вспомнил я всю эту запутанную историю исключительно с одной, немного примитивной и циничной, целью – подчеркнуть важность не только духовной стойкости, но и продовольствия для воюющего человека. Будь, например, у российского бойца Закарьи Алиева вода и еда (лучше – консервы), он бы месяцами свои позиции держал. Даже оружие и патроны у врага отвоевал бы. Что, кстати, он и сделал однажды. Правда, еды не добыл. Кроме мешочка лука.
Новые технологии
Как уже было упомянуто, в судьбе солдата Алиева существенную роль сыграли беспилотники. С их помощью боевые товарищи сумели и воду ему доставить, и еду, и вывести в конце концов к своим позициям. Ни на одной прежней войне БПЛА не играли такой могучей роли, как в ходе Специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Впрочем, их как средства вооружённой борьбы и как транспорта для доставки боеприпасов и продовольствия раньше и не было…
Тут, правда, следует оговориться, что не всегда новые техника и технология приводят к прогрессу. Помню, когда служил в Германии, в конце 1980-х наша переводчица Люда Тулина принесла западнонемецкий журнал «Штерн» со статьёй о колбасном производстве в ФРГ. Она нам её прочитала почти всю вслух в русском варианте. Суть статьи следующая.
Поскольку машиностроение и наука шагнули далеко вперёд, то в том числе в Европе появились мощнейшие промышленные мясорубки, которые любое сырьё теперь мелют в пыль, почти до молекулярного уровня. И немецкие производители колбас и паштетов запускают теперь в эти измельчители не только мясные продукты, но и всякую кожгалантерею – старые пояса, туфли, сапоги и т. п. Прокололись колбасники (если не ошибаюсь) на масштабных поставках отслужившей своё армейской обуви и прочих бундесверовских кожаных списанных вещей. Вот так журналисты раскрутили «колбасно-сапожное дело». Кстати, мы с сослуживцами чуть позже были уверены, что массовые поставки гуманитарной помощи оголодавшему при Михаиле Горбачёве Советскому Союзу ("перестройка унд гласност") непременно включали в себя забракованную немцами колбасу из бундесверовских ботинок.
Впрочем, я также вспомнил фильм, который смотрел в детстве, – про оторванную от причала штормом и уносимую в открытый океан советскую баржу с четырьмя солдатами. Старшим был сержант Асхат Зиганшин. 49 дней они дрейфовали почти без еды и воды. Съели всю кожаную продукцию – ремни, сапоги и даже мехи гармошки. И выжили. Так что, по большому счёту, немецкая «обувная» колбаса не была смертельной.
И всё же технический прогресс преимущественно приносит людям благо. При всех оговорках. В том числе новые технологии в пищевой промышленности. Например, лет 20 назад не было поставлено на широкую ногу производство сублимированных продуктов, которые сейчас незаменимы для войск в зоне активных боевых действий. Теперь в любом блиндаже достаточно на огне окопной свечи разогреть кружку воды и залить сухую вермишель с добавками, чтобы получить некий горячий супчик. Он и нутро согреет, и сытости добавит, и настроение поднимет.
Раньше я и мои товарищи по оружию из всех сублимированных продуктов знали только почти забытый ныне чёрный хлебный сухарь. Правда, в голодное время он казался слаще пирожного. Закарья Алиев его бы оценил по достоинству в своём холодном опорнике. Но его случай исключительный, потому и заслуживает подробного описания. А ещё наталкивает на размышления о вариациях армейского пайка.
Сейчас, в ходе СВО, этот армейский паёк заметно расширил своё значение, потому что почти вся страна дружно взялась помогать родной армии добывать победу именно на сытый желудок. Народ сгрудился в бригады и делает для бойцов (в том числе для своих сыновей, мужей и отцов) сухие борщи, супы, каши, консервирует овощи и фрукты, печёт пироги и печенье. А затем с волонтёрами отправляет на фронт, чтобы подкормить солдат и подсластить их порой горькую окопную жизнь.
Это, однако, не означает, что наше Министерство обороны самоустранилось от кормления войск. Оно своё дело делает, но строго зависит от давно установленных норм довольствия. Нет в этих нормах, например, ни печенья с вареньем, ни пирожков с капустой. Такова реальность для армейских продслужб на сегодняшний день.
Об этих печеньках и пирожках я вспомнил неспроста. Дело в том, что незадолго до СВО бывший в ту пору министром обороны Сергей Шойгу приехал с проверкой в одну из воинских частей, дислоцированных под Ростовом-на-Дону. Прошёлся в том числе и по солдатской столовой, где в тот момент обедали бойцы. Оглядел всё внимательно и вдруг обернулся к сопровождавшему министра тогдашнему губернатору области Василию Голубеву: «А почему у солдат на столах нет ни печенья, ни пирожков?» Губернатор оторопел от неожиданного вопроса. Какое, мол, отношение он может иметь к солдатскому меню и нормам довольствия?! Это же именно министр обороны должен определять, нужны ли эти пирожки и печеньки на солдатских столах. В общем, промямлил губернатор что-то в ответ, дескать, поправим дело, изыщем резервы. На том и кончили разговор.
Теперь пирогами и печеньем занялся великий и щедрый народ России. Более того, в Крыму, в Ростовской области и Краснодарском крае на дорогах, по которым регулярно двигаются военные колонны в сторону Донбасса и Новороссии, энтузиасты развернули мобильные пункты горячего питания для бойцов. Обычно их называют «Солдатский привал». Женщины-активистки кормят бесплатно всех желающих, кто направляется на линию боевого соприкосновения. И пироги с печеньем на дорожку дают.
Тем более что современный армейский сухпай благодаря «заботам» бывшего главного тылового начальника вооружённых сил генерала Дмитрия Булгакова (ныне арестованного за злоупотребления на службе) стал гораздо хуже советского варианта. Так говорят опытные офицеры. В общем, то, что некоторые генералы испортили, народная инициатива стала исправлять.
Однако не энтузиазм народа – главная тема в данном случае. Бесспорно, что кроме одобрения и восхищения патриотический настрой людей других чувств вызвать не может (по крайней мере, у нормального человека). Я же хочу выделить другой аспект продовольственной темы и подчеркнуть: ситуацию с прокормом армии изменили не только патриотически заряженные люди в тылу, но и новые технологии. И речь не только о массовом производстве сублимированных продуктов.
Впрочем, и в не очень далёкие советские времена в наших армейских пайках были сухие каши, спиртовки для разогрева пищи и ещё разные мелочи. Однако это было как бы штучное производство. А вот что было массовым и остаётся массовым по сию пору, так это консервы.
Консервация
Такое иногда возникает ощущение, что консервы были всегда. Но это, конечно, не так. Консервы, благодаря которым девять лет выживал в казематах 13-го форта под Перемышлем безвестный русский офицер, появились не так давно, если иметь в виду исторический масштаб. Например, привычные для нас железные банки начали изготавливать лишь в 1890-х годах, а стеклянные раньше – в 1810-м.
Однако началось всё с трагедии на французском военном корабле. Там в самом начале XIX века от цинги, от плохой пищи на борту вымерла вся команда – под сотню моряков. Эту трагедию переживали не только многие простые французы (не говоря уже о родственниках погибших), но и лично Наполеон Бонапарт. Более того, он объявил конкурс на создание такой еды, которая долго не портилась бы и сделала бы моряцкий стол более разнообразным.
Конкурс выиграл парижский хозяин кондитерской Николя Аппер. Он стал «пастеризовать» еду в специально изготовленных для этого бутылках. То есть попросил стеклодувов «обрезать» горло у бутылок для шампанского и сделать его (горлышко) более широким. Как ни странно, но почти идентичной формы бутылки сейчас используют многие фирмы, которые производят фруктовые соки. Загрузив такие бутылки кашей с мясом, овощными салатами и даже фруктами в сладком сиропе, он их кипятил в чанах с водой, затыкал пробками и обливал «голову» воском. Вот такая технология.
В 1810 году он продемонстрировал свою продукцию имперской комиссии. Привёз на пробу и те бутылки, которые успели покрыться паутиной. Проверяющие, включая лично Наполеона, были приятно удивлены результатом. И Николя Аппер закономерно получил гигантскую по тем временам премию в 12 тысяч франков. А сверх того Бонапарт присвоил ему уникальное звание – «Благодетель человечества».
Однако, рассказывая о технологии парижского кондитера, я исторически неверно употребил слово «пастеризация», которое вошло в обиход гораздо позже – благодаря учёному-микробиологу Луи Пастеру. Он тоже придумал, как бороться с вредными бактериями. Но родился лишь 27 декабря 1822 года, через 12 лет после триумфа Аппера. В связи с этим, согласитесь, было бы более правильным называть кипячение банок с продуктами для большей сохранности не «пастеризацией», а «апперизацией». Увы, в мире науки при распределении славы много несправедливости.
Ну, а что касается железных консервных банок, то у них история более сложная. С самого начала ясно было, что стеклянная тара для хранения продуктов и слишком тяжела, и слишком хрупка. Однако и здесь не обошлось без Аппера. Именно его пример вдохновил англичанина Питера Дюрана придумать и запатентовать в том же 1810 году железную банку для консервирования. Однако лично он производством не занялся, а продал патент двум другим землякам – Брайану Донкину и Джону Холлу. В 1813 году британцы построили фабрику и стали производить консервы для королевского флота, а затем и армии. Но…
Это не была фабрика в привычном для нас понимании – скорее, кузница, совмещённая с кухней. Почти всё делалось вручную. В том числе жестяной лист рождался под ударами молота могучего работяги-кузнеца. Сама банка весила приблизительно полкилограмма. Производительность – не более шести банок в день.
Самые сложные операции заключались в соединениях – при сворачивании листа в трубу, при креплении донышка и крышки. На этих этапах для припоя в момент скрепления металлических листов использовался свинец, из-за которого люди травились и болели. К примеру, на полмира стала известной трагедия на Шпицбергене, когда 17 охотников на тюленей до смерти отравились британскими консервами. Это случилось зимой 1872–1873 годов. Трагедии были и раньше, но о них не так сильно шумела пресса.
После многочисленных случаев гибели и хворей моряков и солдат свинец в банках заменили на олово. Но это кардинально дело не поправило. Только в конце 1880-х годов был придуман так называемый двойной закаточный шов. В 1890-х края шва на банках стали заделывать в замок. Это позволило предотвратить попадание внутрь банки пресловутых припоев из свинца, олова и т. п. при креплении жестяного листа. Именно после таких придумок консервную банку стали называть санитарной, то есть безопасной для здоровья. Однако в конечном итоге современный вид консервирование в металлической таре приобрело в 30-х годах XX века.
Какими конкретно консервами питались пленные русские офицеры в казематах форта №13 под Перемышлем – неизвестно. Были у них там свинец или олово, или не были – история умалчивает. Как умалчивает и о факторе влияния сомнительных металлов на психику человека. А вдруг разум у штабс-капитана Новикова помутился от свинцового припоя. Попробуй угадай тут.
Зато точно известно, что популярную в России, да и во многих странах СНГ, ручную машинку для закатывания консервных банок (она раньше была у каждой советской домохозяйки, да и сейчас у многих «на вооружении») придумал Николай Фёдорович Макаров – почти всему миру известный изобретатель пистолета Макарова (ПМ). Увы, почти никто у нас не слышал про изобретённый «закаточный ключ Макарова». Вот так – знай наших!
Кстати, это был заказ его жены – придумать что-то для закатки консервов в стеклянных банках.
Сергей Тютюнник