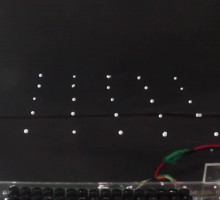Что такое молекулярное баркодирование и чем оно напоминает средневековых монахов? Чем отличается иммунитет долгоживущего организма от обычного? Можно ли изменить «настройки» иммунной системы так, чтобы всем стать долгожителями, и как это сделать? Об этом наш разговор с Дмитрием Михайловичем Чудаковым, заведующим отделом геномики адаптивного иммунитета Института биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, директором Института трансляционной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессором Сколтеха, членом-корреспондентом Российской академии наук.
— Дмитрий Михайлович, хотелось бы поговорить об оригинальных научных методиках и результатах, которые были получены в вашем отделе, в частности о молекулярном баркодировании. Что это за метод, в чем он заключается, для чего нужен?
— На самом деле этот метод был предложен не нами и был использован незадолго до нас в онкологии для более точного определения опухолевых мутаций. В чем мы действительно были первыми, так это в его применении для исследования репертуаров Т-клеточных рецепторов и антител в нашей иммунной системе. Это технически сложная задача, когда вы работаете с большими библиотеками вариантов, многие из которых действительно похожи, а многие возникли в силу накопленных ошибок. Когда вы видите два похожих варианта, вы хотите быть уверены, что они настоящие, а в ходе приготовления библиотек и массированного секвенирования копятся ошибки.
— Как же вы их отличаете?
— Оказалось, что самый эффективный способ избавиться от ошибок, сохранив настоящие варианты, — это маркировать на самом старте уникальную последовательность нуклеотидов уникальным идентификатором, каждую молекулу. Когда вы затем получаете прочтения секвенирования, то знаете, к какой стартовой молекуле они относятся. Скажем, молекула № 1257. И вот вы ее прочли десять раз. Вы гораздо более уверены в реальной последовательности нуклеотидов, если прочитали одно и то же десять раз. В ходе полимеразной цепной реакции молекулы размножаются, и в какой-то момент случились ошибки. Это как монахи в монастырях переписывали копии Библии: в каком-то монастыре ошиблись, и эта ошибка кочует из книги в книгу.
Но если вы знаете, что это все происходит из одного и того же текста, и можете независимо проанализировать тексты из разных монастырей, то вы сопоставляете и понимаете: ну да, здесь ошиблись, но в других девяти текст другой, — значит, вы знаете правильный исходный вариант текста. Здесь похожая история: у нас есть способ проследить, от какой стартовой молекулы пришли потомки, и многократно их проанализировать, отфильтровав большую часть ошибок.
— Что это дает в практическом смысле?
— Это дает нам возможность, например, многое понять при анализе антител. Сейчас, на фоне ковидной истории, все стали немножко иммунологами и знают, что такое B-клетки и антитела, или думают, что знают. B-клетки умеют «дотачивать напильником», дорабатывать антитела, чтобы они лучше узнавали антиген, более точно, с большей аффинностью, и при этом еще меньше липли на наши собственные антигены. В ходе этого «дотачивания» накапливаются подварианты, и для того чтобы понимать, как работают вакцины, как работает гуморальный иммунитет против вирусной инфекции, нам в том числе необходимо анализировать репертуары антител. Важно видеть, как растет это дерево вариантов, лучше и лучше распознающих конкретные молекулы. Если вы не можете отличить растущее дерево реальных вариантов от дерева ошибок, которые вы произвели в лаборатории, то вы не можете толком ничего понять и проанализировать, все тонет в шуме этих ошибок.
А молекулярное баркодирование позволяет убрать весь шум и посмотреть, какие подварианты молекул действительно существуют. В случае T-клеточных рецепторов — они так не умеют, они не меняют свою последовательность. Но там есть другой, похожий по смыслу процесс, когда возникает ответ на инфекцию или на опухоль, или аутоиммунное заболевание, — ответ против наших собственных тканей, когда тоже образуются группы похожих вариантов T-лимфоцитов, которые их распознают.
— Значит, у пациентов часто возникают одинаковые или похожие варианты T-клеточных рецепторов. Почему?
— Да, потому что они узнают один и тот же антиген. T-клетки узнают своим T-клеточным рецептором антиген не просто так, а в контексте антиген-презентирующего комплекса. Это такая молекула на поверхности наших клеток, показывающая кусочки белков — пептиды. Эта молекула, в комплексе с пептидом, имеет определенную поверхность, и T-клеточный рецептор ее распознает. Поверхность T-клеточного рецептора определяется его аминокислотной последовательностью — вот какая будет, так он свернется.
Но понятно, что одну и ту же поверхность можно распознать несколькими вариантами, и часто они бывают похожи. Похожие варианты аминокислотной последовательности T-клеточных рецепторов формируют похожие поверхности, которые узнают одну и ту же поверхность антиген-презентирующего комплекса. И оказывается, что нам важно видеть такие группы (мы их называем кластерами) вариантов T-клеточных рецепторов в пациентах, у вакцинированных людей, чтобы идентифицировать подобные конвергентные ответы на ту или иную инфекцию, патологию, вакцину.
— При этом мы снова рискуем утонуть в шуме ошибок?
— Да, у нас снова огромное разнообразие вариантов, мы хотим видеть похожие, различать, а у нас шум из ошибок. Мы не знаем, что настоящее, а что ненастоящее. А если мы используем подход молекулярного баркодирования, мы освобождаемся от шума и получаем информацию с гораздо большей достоверностью.
В целом мы движемся к диагностике большого числа разных заболеваний, патологий и историй вакцинаций по индивидуальному анализу иммунных репертуаров. Сегодня это еще невозможно, в основном потому, что эти молекулы, показывающие антигены, очень разные у разных людей в нашей популяции, они очень гетерогенны. Соответственно, если молекулы разные, то и распознают их разные T-клеточные рецепторы, и нам очень трудно разобраться в этом многомиллиардном разнообразии вариантов.
— Но вы думаете, что в будущем нам удастся это сделать?
— Над этим активно работают ключевые лаборатории и компании в мире. У нас есть такой большой «конкурент» Adaptive Biotechnologies, они несколько лет назад договорились с Microsoft и Genentech, объединили усилия именно для того чтобы создать диагностику по репертуарам T-клеточных рецепторов, чтобы она стала действительно серьезным инструментом в руках клиницистов. И это непременно произойдет.
— В чем оригинальность работ в этом направлении в вашем отделе?
— В нашем коллективе создан ряд алгоритмов поиска групп вариантов T-клеточных рецепторов, ассоциированных с заболеванием. Кроме того, мы пытаемся, хотя это очень сложная и почти бесконечная задача, систематизировать варианты T-клеточных рецепторов с известной специфичностью, фактически составить «словарь». Сейчас у нас такая ситуация, будто мы пошли в библиотеку, где стоят книги, мы знаем буквы, можем читать слова, но мы не знаем, что эти слова значат, и тексты для нас бессмысленны. Каждый пациент и его иммунный репертуар — для нас книга, состоящая из слов, значения которых мы не знаем, но смысл в них на самом деле есть.
— И вам надо понять этот смысл?
— Да, в этом нужно разобраться, расшифровать этот язык. Мы поддерживаем международную базу данных, единственную в своем роде, которая собирает всю информацию. И в этой базе данных можно сейчас взять репертуар пациента, прогнать и узнать, какой именно в конкретном человеке есть ряд T-клеточных рецепторов, отвечающих на цитомегаловирус, ковид, другие инфекции. Есть конкретные ситуации, когда можно точно сказать, что T-клеточный ответ есть. Это пока очень мало для диагностики, но это важная основа, потому что дальше с таким пока очень ограниченным набором слов, значение которых мы знаем, начинают работать биоинформатики, усреднять информацию, учиться лучше предсказывать, какие поверхности они распознают. Обобщая эту информацию, анализируя, сопоставляя с трехмерными структурами, в перспективе можно научиться по последовательности T-клеточного рецептора предсказывать, что он распознает, даже если не было функционального подтверждения конкретной специфичности. Если мы дойдем до этого уровня, то возможности для диагностической интерпретации резко возрастут.
— Иначе говоря, каждый человек станет для врача, для ученого открытой книгой, по которой можно сказать, какие ему могут грозить опасности, как их можно профилактировать, какие прививки нужно сделать, какие обследования пройти, чтобы избежать заболевания?
— Абсолютно точно. Пройти более глубокую диагностику с использованием тех методов, которые применяются для этого заболевания. Это будет мощнейший диагностический инструмент. Фактически для этого потребуется один анализ крови, и он не будет очень дорогим. Просто надо научиться читать эту информацию.
— Остается дожить до этих счастливых времен. Дмитрий Михайлович, знаю, что вы занимаетесь исследованием таких необычных организмов, как слепыши — животные, которые не видят, не слышат, тем не менее очень долго живут и не болеют раком. Каким образом вы «подружились» со слепышами?
— На самом деле мы искали каких-нибудь долгоживущих грызунов. Сначала мы попробовали найти голых землекопов, но добыть старых голых землекопов оказалось делом невозможным, американские коллеги не стали с нами делиться. А со слепышами оказалось проще: они есть в дружественной лаборатории в Израиле и с ними можно взаимодействовать. При этом изучать их непросто — они очень неподатливые, у них нет хвостов, ушей, к тому же у них очень низкое давление, поэтому сложно взять кровь.
Их трудно изучать еще и потому, что нет панели антител, чтобы можно было покрасить их иммунные клетки. Тем не менее мы там очень хорошо продвинулись и эти звери рассказали нам очень многое о нас самих.
— Что же?
— Через этих пушистых землекопов мы гораздо лучше поняли, что может быть так и не так с нашей иммунной системой. Наша иммунная система в течение жизни отвечает на разные инфекции, и не просто отвечает, а запоминает. Мы встретили какой-то вирус, бактерию, гельминта — у нас возникли клональные популяции клеток памяти (T-клеток и B-клеток), которые запомнили: так выглядит это чужое, его надо так атаковать. Это память, которая нас защищает от тяжелого повторного заболевания той же инфекцией. Так работают вакцины, и это хорошая штука.
Но подобных решений, запоминаний иммунная система за нашу жизнь принимает очень много — сотни тысяч, миллионы. К сожалению, она изредка ошибается — или потому, что некоторые патогены умеют немножко запутывать, или потому, что эволюционирующая опухоль научается манипулировать иммунной системой и подталкивает ее к неверным решениям. В разных ситуациях накапливаются клональные популяции клеток памяти, которые знают, что они хотят делать, но они ошиблись и делают не то.
— Так возникают аутоиммунные заболевания?
— В том числе. Это может быть совсем «не то», когда они атакуют нашу собственную ткань и у нас действительно возникает аутоиммунное заболевание. Или не атакуют правильным способом опухоль — и она продолжает развиваться. Это может быть маленькое «не то» — конфликты с микробиотой, когда возникает воспаление, которого не должно быть. Или мягкие бляшки — атеросклероз. Казалось бы, тема далекая от иммунной системы, но на самом деле они наполнены иммунными клетками и там тоже происходят антиген-специфичные процессы, и тоже клоны, которые что-то запомнили и делают не так, могут провоцировать их развитие. А впоследствии бляшки растут, рвутся — и возникают тромбозы.
Оказывается, у нашей памяти, которая так хорошо нас защищает, есть некоторые существенные недостатки, которые становятся причинами многих заболеваний. Они усиливаются с возрастом, и это мы тоже увязываем с накопленными маленькими ошибками иммунной системы. Она продолжает что-то где-то узнавать и воспаляться там, где на самом деле это делать не нужно. Это такая плата за нашу иммунную память, за возможность защищаться долговременно: эти клоны часто сохраняются с нами всю жизнь. За возможность иметь такую пожизненную защиту от предыдущих тяжелых инфекций мы расплачиваемся тем, что ошибки иммунной системы начинают разрушать наше тело.
— А у слепышей с этим по-другому?
— Да. Когда мы стали разбираться с этими ребятами, оказалось, что у них с возрастом не накапливается существенных клональных экспансий. С возрастом у людей накапливаются клоны T-клеток, которые на что-то отвечают и еще и друг друга регулируют, чтобы нас сильно не повредить. У слепыша этого всего нет.
— Понятно, для чего это нужно человеку, — для того чтобы выработать иммунитет к предыдущим заболеваниям. А как же слепыш без этого живет? Он же может умереть от какой-нибудь банальной инфекции?
— Да, логически следует, что повторная инфекция для него проходит практически так же тяжело, как и предыдущая. Возможно, это так. Возможно, они могут себе позволить такую организацию иммунной системы ввиду своего образа жизни, а они живут небольшими колониями на большом удалении и редко встречаются, так что вероятность того, что к ним придет эпидемия, относительно низкая. Но да — у них, видимо, не закрепляется долговременная память, их иммунная система «не злопамятна».
— Но при этом иммунная система работает, просто по-другому?
— Да, их иммунная система работает, и работает хорошо, просто она смещена в сторону врожденного иммунитета и вполне нормального адаптивного иммунитета, как у нас с вами, но без такой продолжительной памяти. Они каждый раз ответили, решили проблему и как бы забыли о ней.
— Хорошо это или плохо?
— Это и хорошо, и плохо. Но оказывается, что при такой организации адаптивного иммунитета не накапливаются воспалительные процессы, а значит, не возникают ниши для развития онкологических заболеваний, не возникает атеросклероз. Этого всего у них, видимо, нет.
— Интересно, а такая организация иммунной памяти свойственна всем долгоживущим организмам или это что-то уникальное?
— Мы этого не знаем. Можно предположить, что у голых землекопов ситуация похожая.
— А огромные долгожители — серые киты, например?
— Исследовать этот вопрос интересно. Мы уже задумывались про слонов, даже начинали общаться с Московским зоопарком, но это оказалось не так-то просто — взять у них кровь. Вообще в мире много разных созданий, и мы довольно мало знаем про их иммунитет.
Но здесь важно вот что: оказывается, программы, которые накапливаются с возрастом в иммунных клетках мышей и не накапливаются у слепышей, — это те же программы, которые отличают субпопуляцию людей, имеющих менее «злопамятную» иммунную систему. Она меньше накапливает с возрастом воспалительные процессы, и они преодолевают то, что мы называем age selection. Это люди-долгожители.
— То есть у них имеется некоторое сходство со слепышами?
— Да. Видимо, кому-то из нас повезло быть больше похожим на слепыша. Мы все разные, и степень долговременности, упертости памяти иммунной системы, амплитуда ответов — разная.
— Понятно, что в чем-то это предопределено образом жизни, в чем-то — генетически, но можем ли мы придумать что-то для всего человечества, чтобы сбросить эту иммунную память и жить дольше?
— Такого никто пока не придумал, хотя ведутся работы в этом направлении. Шла речь о том, чтобы попробовать использовать вирус кори, который по умолчанию вообще-то сбрасывает память, он так устроен.
— Но разве это не опасно?
— Какую-то модифицированную, ослабленную версию. Но это не так просто сделать, и пока мы не настолько хорошо разбираемся и не имеем нужных инструментов для подобных манипуляций в иммунной системе.
О чем, наверное, следует думать, так это о разработке более умных и точных вакцин. Вакцины сделали очень много и продлили жизнь людей на многие десятилетия, но это не значит, что существующие вакцины идеальны. Можно работать дальше, разбираться, какой тип иммунного ответа они вызывают, в какой ткани, какой амплитуды, насколько долгая память формируется, могут ли быть какие-то перекрестные реакции, когда вакцина вызывает ответ на собственные антигены. Тут большой простор для тяжелой и долгой работы фармкомпаний и ученых.
— Иначе говоря, нужны вакцины, которые снизят нагрузку на нашу иммунную систему?
— Да, с одной стороны, потому что они сами будут тоньше, аккуратнее работать, с другой стороны, потому что они снизят нагрузку от инфекций, которые нас атакуют. Ведь мы сталкиваемся с рисками ошибочных решений при каждой тяжелой инфекции. Далеко ходить не надо: COVID-19 очень сложно запутывает нашу «иммунку», отвлекает ее, и мы оказываемся в ситуации, когда она, видимо, совершает много ошибок.
— Я видела, у вас в институте висит объявление с приглашением сделать очередную прививку от коронавирусной инфекции. Слышала от вирусологов, что от нынешнего штамма «омикрон» и всех его модификаций текущий вариант вакцины «Спутник» защищает примерно на 10%. Вы разделяете эту точку зрения? И тогда есть ли смысл вакцинироваться?
— Вакцины немножко отстают, не успевают за эволюцией вируса. Слава богу, он вроде ослаб и сейчас представляет для нас уже не такую опасность. Но тут нужно разделять: есть ответ антительный, гуморальный, от которого эволюционирующий вирус довольно быстро уходит, а есть ответ T-клеточный, и, судя по всему, он все-таки защищает от тяжелого течения заболевания. От всех его антигенных специфичностей одновременно вирусу сложно ускользнуть. Здесь о реальной ситуации нужно спрашивать клиницистов и иметь честную медицинскую статистику. От тяжелого течения заболевания «Спутник» защищал достаточно хорошо. Насколько это сейчас эффективно, я не знаю.
— Вы пойдете вакцинироваться?
— Нет. Я вакцинировался «Спутником», переболел первый раз в средней форме, второй раз — в достаточно легкой. Думаю, для меня этого достаточно. Естественно, я использую этот случай, собираю образцы своей крови, и я знаю, что со мной происходит, — мы следим за клонами T-лимфоцитов, какие возникают популяции и т.д.
— И какие вы делаете выводы, следя за собой?
— Многие, но не все клоны, ответившие на первый ковид, защищали меня от второго. Есть клоны, которые возникли с вакцинацией «Спутником» и которые защищают меня от последующих заболеваний. Их не очень большая доля в моем случае, но они есть. Видим, что эта память долговременная, и мы видим типы иммунных ответов, которые возникают. Это интересная история. Понятно, что на одном человеке вы не можете сделать никакой статистики, зато можно пойти вглубь и посмотреть детали.
— Дмитрий Михайлович, вы возглавляете Институт трансляционной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Почему вы встали во главе этого учреждения, какое это имеет отношение к вашим научным исследованиям?
— Отчасти это реинкарнация отдела, который существовал исторически в Институте биоорганической химии им. М.М. Шемякина РАН. С другой стороны, это довольно большое здание, там много интересных коллективов, разворачивается большой и очень качественный виварий. Это тоже очень важная для нас история. У нас есть возможности в Институте биоорганической химии в Пущине, но такого, чтобы под рукой были действительно серьезные мощности, чтобы вести разные линии, скрещивать мышей, работать на серьезном уровне, у нас никогда не было. Сейчас есть надежда, что мы сможем работать на новом уровне. Мы запустили там очень большой и мощный сервер для анализа данных. Огромная часть нашей сегодняшней работы — это работа с данными. Это много разной биоинформатики, когда делается анализ программ в единичных клетках, но для многих тысяч клеток. Это огромное количество данных, и с ними ужасно интересно долго и сложно работать. Серверные мощности абсолютно необходимы. Там они есть.
— То есть это продолжение вашей научной работы?
— Да. Это весьма существенные новые возможности по оборудованию, огромное число замечательных студентов. Мы их притягиваем к своей работе.
— Вы говорите о работе с мышами, а ваши слепыши в это время находятся в Израиле. Наверное, существуют какие-то трудности в такого рода исследованиях, когда объект так далеко?
— Трудности возникают, но не обязательно это зависит от расстояния. Сбои и недопонимания между людьми возникают иногда на расстоянии нескольких комнат.
— То есть у вас здесь не возникает никаких проблем?
— Здесь — нет, люди от нас туда ездят в командировки. Работа идет. На самом деле проект международный: образцы получаются в Израиле, а затем они едут в Россию или в Чехию, потом они анализируются в Германии или Швеции, после этого происходит секвенирование, потом данные возвращаются в Москву, мы анализируем их здесь. Ничего удивительного тут нет. Вообще наука в мире устроена примерно так. Сейчас у нас сложный период, но я надеюсь, что мы не растеряем связи и продолжим нормально, эффективно взаимодействовать.
— Я знаю, что слепыши есть не только в Израиле, но и даже у нас в Сибири. С ними возможно работать?
— К сожалению, слепыши, или слепышата, которые живут у нас в Сибири, не такие долгоживущие, они не привлекли нашего интереса.
— А почему так? В Сибири более суровый климат? С чем это связано?
— Не знаю, по сути, это другой вид. Может быть, и имеет смысл обратить на них внимание именно как на сравнительный организм, но пока на это не хватает времени. Мы думали ловить летучих мышей — они тоже живут очень долго. Теоретически можно поймать окольцованную мышку, про которую будет понятно, что она прожила 50–60 лет в пещере. Но оказалось, что дальше не очень понятно, как быть: чтобы взять из нее достаточное количество материала, ее придется убить.
— Мышку жалко…
— Да, окольцованную мышку, которая прожила уже 60 лет, убить рука не поднимется. Кроме того, технически проект довольно сложный — лазать по пещерам и ловить летучих мышей. Тем не менее есть разные интересные организмы, до которых мы, может быть, еще дотянемся. Сейчас пока стоит задача разобраться со слепышами, что тоже не так-то просто. Пока одного зверя вполне достаточно, поскольку он совершенно другой архитектуры иммунной системы, его можно изучать всю жизнь.
— Как вы думаете, слепыши помогут нам продлить жизнь на какой-то заметный срок?
— Я думаю, что они уже принципиально изменили наш взгляд на возможное устройство адаптивного иммунитета. Они уже помогли. У нас сейчас существует совершенно другой уровень понимания. Первая работа про них опубликована в Nature Aging. Сейчас мы работаем над очередной, и я думаю, что это увидят в мире и многое поймут про то, как мы устроены и что это значит для развития терапевтических методов, для совершенствования вакцин. Так что они уже сделали очень много, и можно сказать им за это спасибо.
Беседовала Наталия Лескова
Дмитрий Михайлович Чудаков