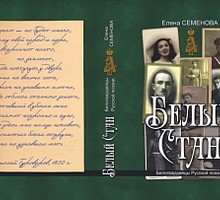В октябре 1918 года советская власть приняла декрет «О введении новой орфографии», предписывавший печатать все газеты, журналы, книги и официальные документы по другим правилам.
Из алфавита исключались буквы «ять», «фита», «и десятиричное», заменяясь на е, ф и и. Устранялся твердый знак ъ после согласной в конце слова. Приставки, заканчивавшиеся на з, перед глухими согласными превращались в приставки на с. В родительном падеже прилагательных, причастий и местоимений вместо аго/яго требовалось писать ого/его. В именительном и винительном падеже женского и среднего рода множественного числа прилагательных, причастий и местоимений вместо ыя/iя – ые/ие. В родительном падеже единственного числа личного местоимения женского рода вместо ея – ее. Наконец, из замены «ятя» на е делались исключения: вместо множественного числа именительного падежа женского рода оне надлежало писать они, а вместо женского рода одне, однех, однеми – одни, одних, одними.
Вот вроде бы и вся реформа. Провести ее на территории, контролируемой большевиками, большого труда не составляло – все печатные средства там были захвачены советской властью и полностью контролировались, действовала цензура, мимо которой ни один «ять» не проскочит. Революционные матросы реформировали орфографию просто – они ходили по типографиям и уничтожали литеры запрещенных букв. А так как буква ъ была и запрещена, и не запрещена, революционное сознание пролетариата, теряясь перед этой апорией, решило действовать по-большевистски – ее тоже уничтожали. Еще многие десятилетия значительная часть советских книг и большинство газет печатались с «апострофом» – диакритическим знаком вместо твердого: «С'езд ВКП(б)».
Реформа обсуждалась еще до революции – учительские съезды жаловались на то, что крестьянские дети изнемогают, заучивая слова с «ятями», и это мешает им постигать грамоту. Академия наук даже создала специальную Орфографическую подкомиссию, в которой верховодили известные лингвисты Фортунатов и Шахматов. Однако это не делало реформу строго научной, если в таком деле вообще была возможна научность: реформаторы руководствовались своими идеологическими или научными предубеждениями.
Академик Ф. Ф. Фортунатов был виднейшим представителем лингвистической школы младограмматиков, которая всегда и во всем искала строгие фонетические соответствия. Из двух принципов правописания, смешанных в русской орфографии – исторического (как принято) и фонетического (как слышится) – Фортунатов, как и многие другие сторонники реформы, защищал второй. А потому фанатично боролся с «ятем», который в его представлении являлся чистой фонетической бессмыслицей, не соответствуя никакому живому звуку, отличавшемуся от е (на деле многие защитники нереформированной орфографии этот звук слышат, но это может быть и плодом их воображения).
Фото: РИА «Новости»
С «фитой», которая разбивала изящное написание его инициала через тройной ферт, требуясь в отчестве «Федорович», Фортунатов воевал по личным причинам.
Академик Шахматов был видным диалектологом, то есть работал с устным звучанием слов. В его представлении история русского языка сводилась по большому счету к истории устной речи, которая якобы зеркально отражается в письменных памятниках. Его же работы с письменными текстами (анализ русского летописания) внесли в эту сферу столько произвольных гипотез и фантастических загогулин, что историки их не разгребли и за сто с лишним лет.
При этом Алексей Александрович был пламенным кадетом, сторонником всяческого прогресса и освящал своим научным авторитетом многочисленные сомнительные новшества, например появление «украинцев».
Предложения академиков были встречены в штыки и научным сообществом, и общественностью, и особенно писателями и поэтами, которых реформа лишала многих выразительных средств. Не было никаких признаков, что царь эту реформу примет. Но пришло Безцаря, Временное правительство собрало ученых (уже без умершего Фортунатова, но под руководством Шахматова) и еще раз утвердило реформу, которую, впрочем, никто принимать не захотел. Слишком очевидна была параллель с лишением двуглавого орла короны и отменой отдания чести в армии, приведшей к ее скорому распаду.
Большевики уже никого ни о чем не спрашивали. Они просто приняли два декрета – первый, января 1918-го, относился только к советским официальным изданиям, второй, проводившийся в жизнь в атмосфере красного террора, был уже всеобщим. Даже на тех, кто был согласен с содержанием реформы и сам над нею работал, она произвела самое тягостное впечатление.
Это был акт диктатуры, уверенной в своем праве корежить жизнь общества и конструировать утопический новый мир.
Исправление букв шло в одном ряду с исправлением дат на календаре, нападением на церкви, вскрытием мощей и закапыванием взятых в заложники представителей «черносотенной буржуазии».
Шахматов тяжело переживал свою причастность к происходившей культурной катастрофе. «В том что происходит, отчасти и мы виноваты, – говорил он летом 1918-го, еще до того, как реформа стала принудительной. – Заседание, в котором мы приняли новую орфографию, было большевицким... Мы тоже разрушители». Увы, прозрение было слишком поздним: летом 1920 года Шахматов умер в Петрограде фактически от голода. Свои последние труды он печатал по старой орфографии.
Но вернемся в ту пору, когда агитация за новую орфографию велась при помощи языка, а не маузера. Тогдашние выступления сейчас производят странное впечатление. Например, широко применялся аргумент от экономии бумаги – целых 3,5% за счет победы над «ером», правда, за счет утолщения i до и полпроцента отъедались обратно.
Особенный упор делался на потребности массового образования крестьянства, которому принятая на тот момент орфография якобы ужасно мешала. В этом было сразу два лукавства.
Во-первых, подавляющее большинство молодых крестьян-призывников к тому моменту уже были грамотными, и никакой «ять» им помехой не стал. Естественная смена поколений, осуществление намеченной царем перед войной школьной программы и введение образования для женщин сделали бы Россию страной поголовной грамотности без всякого красного «ликбеза». Напротив, революция с сопутствующими потрясениями задержала распространение грамотности на много лет.
Во-вторых, борьбу с безграмотностью реформа никак не упростила, она лишь заменила одни ошибки другими, более грубыми. Ошибиться в «яте» стало невозможно из-за упразднения «ятя», зато сплошь и рядом пошли ошибки в том самом суффиксе, который советская власть якобы приблизила к народу: «любимаво», «единственава», поскольку измышлявшие реформу академики оказались слишком образованными людьми, чтобы заменить -аго на -аво, как на самом деле говорят большинство великороссов, а не на -ого, как никто и никогда не говорит. Иными словами, одну книжную норму заменили на другую, фонетически еще более далекую от живой речи.
Помогло ли это при борьбе с безграмотностью? Нет. Зато помогло прятать безграмотность.
Новая упрощенная орфография делала ошибки вчерашних пролетариев, превратившихся в партсекретарей и чекистов, менее бросающимися в глаза.
Много говорилось при пропаганде реформы и о том, что язык развивается и потому правописанию надо учитывать новые реалии, чтобы не отстать от времени. Аргумент в высшей степени абсурдный.
Во-первых, исторический принцип правописания, господствующий в английском языке уже много столетий, не помешал ему стать ведущим языком глобального информационного мира, притом что этот язык меняется гораздо активней и быстрее (и географически многовекторней), чем довольно консервативный русский. Никто не пытается требовать от англосаксов писать: "Du iu spik inglish?" – "Es ai du! Hau ai ken fajnd Solcbereckij kafidral?"
Во-вторых, если реформировать правописание каждый раз, когда в языке сдвигается фонетика (не забудем о том, что в разных географических районах одного и того же языка, не говоря о диалектах, она разная), то реформу придется проводить каждые несколько десятилетий, учитывая в том числе и преходящие языковые моды, вроде «падонкаффского» произношения, популярного полтора десятилетия назад.
В-третьих (и в главных), язык развивается не то чтобы быстро. Без искусственных языковых катастроф, вроде тех, что устроили Петр I или большевики, язык на протяжении жизни одного человека практически не меняется.
Упомянутые выше младограмматики сформулировали теорию языковой непрерывности – представители соседних диалектов или следующих друг за другом поколений прекрасно друг друга понимают, а вот на противоположных концах понимания уже нет никакого.
Справедлива эта теория или нет, но факт остается фактом – современному русскому горожанину не составит особого труда понять речь протопопа Аввакума, которая покажется ему дедушкиным сельским говором, притом что она имеет от нашего языка не только лексические, но и грамматические отличия:
«Курочка у нас черненька была; по два яичка на день приносила робяти на пищу, Божиим повелением нужде нашей помогая; Бог так строил. На нарте везучи, в то время удавили по грехом. И нынеча мне жаль курочки той, как на разум прийдет. Ни курочка, ни што чюдо была: во весь год по два яичка на день давала; сто рублев при ней плюново дело, железо! А та птичка одушевлена, Божие творение, нас кормила, а сама с нами кашку сосновую из котла тут же клевала, или и рыбки прилучится, и рыбку клевала; а нам против тово по два яичка на день давала. Слава Богу, вся строившему благая!»
Между нами две реформы правописания и букваря – петровская и большевицкая. При этом рукописный текст Аввакума подавляющему большинству из нас будет действительной непонятен – именно потому, что нас разделили две реформы письменности, безжалостно вычеркивавшие так называемые лишние буквы.
Этот факт вскрывает, пожалуй, главный секрет и главную трагедию реформы. Большевики, как и ранее Петр Великий, руководствовались не столько стремлением открыть дорогу к знаниям, сколько прямо противоположным – стремлением перекрыть ее.
Целые пласты книжной культуры оказывались от умеющих только «по-новому» за семью печатями. Императору-реформатору было важно, чтобы вместо старых церковных книг и летописей новое поколение образованных людей читало арифметику, тригонометрию и «Юности честное зерцало». Большевикам было столь же важно, чтобы встраиваемые в новый быт пролетарии испытывали дискомфорт (иногда физический) от старых книг и могли легко переваривать преимущественно «Переписку Энгельса с Каутским».
А там уже могло прокатить что угодно, включая цензурные метаморфозы слова «Бог», которое строго-настрого наказали печатать только со строчной буквы (в вышеприведенном тексте Аввакума, даваемом по изданию 1963 года, все прописные в имени Божием я проставлял вручную).
При этом на Сатану запрет не распространялся.
В результате в изданном в СССР в 1976 году в составе тридцатитомного собрания сочинений Достоевского романе «Бесы» (и без того фактически запрещенном) содержалось прямо-таки графическое богохульство: «Но Сатана знает бога; как же может он отрицать его».
Иногда конспирологам казалось, что превращение приставки без в бес (до невероятности некузявое) изобретено было лишь для того, чтобы «бес-препятственно» поминать нечистого.
Еще дореформенная орфография с ее «ятями» и «ерями» в конце слов, конечно, подавляла бы развитие лингвистической раковой опухоли советской эпохи – всевозможных сокращений и аббревиатур. В мире «ятей» «Абырвалгу» было не слишком комфортно. «Главначупръ» с «ером» на конце выглядел бы абракадаброй, а не заклинанием высшей власти.
За сто лет результат достигнут. Среднестатистический обыватель, не отягощенный приступом к гуманитарному образованию, откладывает книгу, изданную по прежним нормам правописания, заявляя, что он «не читает на старорусском». Ему искренне кажется, что это другой язык.
Между среднестатистическим носителем новой орфографии и классической русской литературой в иных случаях встает стена едва ли не выше, чем между нами и Аввакумом. Не буду приводить хрестоматийного примера про «мир» и «мiр», обыгрываемые Толстым в его эпопее. Возьмем пушкинского «Пророка»: «и жало мудрыя змеи / в уста замершие мои / вложил десницею кровавой» – 95% читателей расскажет вам, что здесь сказано «жало мудрое змеи», а не «жало мудрой змеи».
Но Пушкина хотя бы печатают по-старому. Куда меньше повезло Блоку (кстати, категорическому противнику реформы) – его стихотворение «Россiя» новая орфография попросту переписала. В оригинале было: «Россия, нищая Россия, / Мне избы серыя твои, / Твои мне песни ветровыя – / Как слезы первыя любви!».
Блоковские слезы первой любви превратились в советских изданиях в «слезы первые любви». Из того, кто любит Россию как свою первую любовь, самую горячую, нежную и чистую, поэт превратился в нытика, который плачет каждый раз, как полюбит (наверное, от горя и жалости к себе), и примерно так же относится к России.
Разумеется, этот культурный дефолт у многих вызвал искреннее возмущение. Иван Бунин не мог видеть книг, изданных «по-новому». Иван Ильин называл новое правописание «кривописанием» и посвятил ему специальную обличительную работу. Владимир Набоков в русскоязычный период своего творчества отказывался отдавать романы в издательства, печатающие по большевицкой орфографии. Дмитрий Лихачев получил в 1928 году пять лет Соловков за доклад о старой орфографии, в котором он рассматривал советскую реформу не как шаг вперед – к развитию, а как шаг назад – к примитивизации языка.
С того момента, как пресс коммунистической диктатуры с русской словесности снялся, появилась возможность для восстановления использования исторической русской орфографии хотя бы в частном порядке. Прошла волна репринтов дореволюционных изданий, компьютерный набор создал возможности легкой публикации новых текстов и перенабора старых.
У либеральных кривляк моды на «яти» и «еры» быстро прошла, как только старое стало ассоциироваться не просто с «антисоветским», а действительно со старым – православием, самодержавием и русской народностью.
Но людей, пишущих по историческим правилам более-менее правильно, довольно много. Издаются даже специальные пособия по русскому правописанию, такие как книга М. С. Тейкина «Заметки о русском правописании». Существуют издательства, как нижегородская «Черная Сотня», ориентированные преимущественно на дореформенную орфографию.
Реалистично ли вернуться к этой орфографии всем обществом?
Сложный вопрос, но после примера с возвращением целого народа к давно забытому языку и непохожей ни на что другое письменности (разумею возрождение в Израиле иврита) вернуть несколько букв и подправить пару правил не так уж и трудно.
Главное – не забывать, что письменный язык, письменная традиция – это не просто визуальная запись устной речи. Письменность имеет свою историю и содержит мощные пласты непроговоренной информации о языке. Правописание, особенно когда оно этимологическое и историческое, а не чисто фонетическое, само по себе учит того, кто его соблюдает, истории языка, рассказывает о его прошлом и показывает связи, которые из-за изменения звучания слов порой уже не очевидны.
Из русского правописания, пережившего, напомню, не одну, а целых две реформации, большевицкую и петровскую, очень много что вычищено, но почти ничего, кроме букв ё и й, не добавлено. Поэтому для знатока орфографии царской нет никакой проблемы понять, что написано по орфографии советской, но не наоборот. А знаток орфографии допетровской поймет и дореволюционную, и советскую, хотя и подивится их примитивности.
Поэтому я, подумывая о культурной контрреформе, которая нужна нашему народу и цивилизации почти во всем, не ограничивался бы рубежом 1918 года, а замахнулся бы и на некоторые «достижения» 1708-го.
Продвигаемые сейчас в нашу школу уроки церковнославянского языка могут этой глубинной контрреформе поспособствовать. Тот, кто может прочесть (и письменно, и устно) «Отче наш» по-славянски, как-нибудь управится и с Маршаком.
Егор Холмогоров